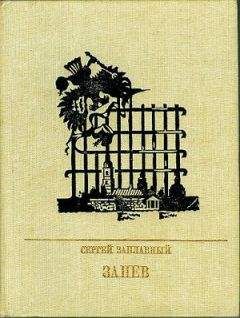Старик вздыхал, крутил головой, покрякивал, потом сказал:
— Нет! — и нахлобучил шапку.
— Ну а ежели водки еще в придачу? И бочонок самолучших сельдей? А? — улыбнулся Яков.
Старик захохотал и мрачно сплюнул:
— Благодарим покорно… Ха-ха-ха!.. Вот так заганул загадку. Водка! А?! Да у меня своя брага сварена, ей-богу право. Вот приедем, угощу. Эвот и село наше.
Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы — Дарья с Марьей, одна другой краше — наперебой потчевали гостя:
— С преснушечками-то, с соченьками-то. Уж не взыщите, мы по-деревенски.
И хозяин весело покрикивал:
— Намазывай толще маслом-то, не жалей, не купленное. Эй, Марья, а ну-ка в погреб, бражки бы похолодней!
С крепкой браги Якова бросило в краску, и в глазах замелькало.
«Этакая благодать, — подумал он, — вот бы пожить-то где», — и поддел на ложку густого пахучего меду.
— Живем, благодарю покорно, ничего… — громко, чавкая и запивая брагой, сказал старик. — Только вот в чем суть: бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем: я стар, а девкам одним не управиться… Вот беда-то…
Яков Мохов поставил на стол блюдце и несмело сказал:
— А что, ежели я бы? Насчет работы-то. Я могу.
— Да ну? — вскричал захмелевший старик. — Ах ты, ясён колпак… Яков Иваныч, друг!.. Неужели остался? А уж насчет жратвы мы тебя побережем, тоись так будем ублажать, ну прямо лопнешь по всем пунхтам. А девки-то, девки-то у меня — малина!.. — Он подмигнул на зардевшихся девиц и вдруг: — А ты женатый?
— И не думал.
— Ну?! Право слово? Девки, слышали?
Девки зарделись пуще и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе.
Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку:
— Раз! — выбросил он новые сапоги. — Первый сорт, со скрипом… Два! — выбросил другую пару. — Три, четыре, пять — это девкины! Нна! Уж насчет обувки — извини — вполне имеем. Ха-ха-ха! Уж извини. Тоись надул я тебя, Яков Иваныч, вот как… Тоись на рынке-то. Не сапоги твои, ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне: большой да широкий. Дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха! Благодарим покорно. Оно как по писаному и обернулось. Чисто камедь… Ах ты, ясён колпак. Дарья, браги!! Марья, ходи веселей! Не зевай, девки, холостой ведь он…
Яков Иваныч улыбался.
— Ну, так как? Это ваше последнее слово, Надюша? — выразительно спросил Утконогов.
— Да, самое последнее… Вы сами посудите, Петр Федотыч… Я, конечно, за кондуктора пошла бы, но страсти боюсь, что вы на экзамене обрежетесь.
— Пожалуйста, в смысле экзамена не сомневайтесь. Например, я все выдолбил как нельзя лучше. Вот разбудите меня в самое ночное время и задайте вопрос…
— Ах, что вы говорите!.. Разве я могу, будучи, без сомнения, девицей, будить в ночное время спящих мужчин во сне… А вдруг вы скочите и замест экзамена начнете мужские глупости… А вот я вам, Петр Федотыч, прямо отвечаю: ежели вы, без сомнения, провалитесь, то за меня сватается один солидарный женишок.
— Кто такой? — оторопело спросил Утконогов.
— Да уж есть, — кокетливо протянула Надюша; круглые, нажеванные щеки ее налились улыбкой, как яблоко. — Сватается за меня Кузьма Ефимыч Жеребяткин… Они не советуют за вас выходить, а я, без сомнения, напротив…
Утконогов шел домой в большом волнении. Да, черт тя ешь, этот самый Жеребяткин конкурент по всем статьям. Этот самый Жеребяткин не кто иной, как нарядчик кондукторских бригад. Вот кто Жеребяткин. И Надюша, видать, не промах: у Жеребяткина хозяйство ай-люли, одних свиней штук пять. Ах, дьявол!
— Ну да ничего… — сказал он вслух. — Ведь экзаменатором-то мой знакомый техник назначен, Лебеда.
Через два дня Петр Федотыч отправился на экзамен и зашел к невесте.
— Ах, до чего вы интересные собой, — сказала девушка. — Только смотрите, как бы не сбили вас. Такой вопрос поставят на ответ, что… Например, меня на экзамене в комячейке спросил инструктор: а где живет Карл Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же опровержение: Карл Маркс живет в сердцах пролетариата. Представьте! Я, без сомнения, не могла знать, и чрез эту неприятность чуть не слегла в обморок.
Петр Федотыч весело расхохотался и сказал:
— Этих паник я не признаю. А раз вы жили в городе у генеральши, позвольте облобызать вашу ручку, мадмазель.
И пошел через село на станцию в полном душевном равновесии.
Но, отворив в контору дверь, он вдруг оцепенел: за письменным столом сидел старший слесарь усач Григорьев и вместо знакомого техника нарядчик кондукторских бригад Жеребяткин. На мгновение в мыслях пораженного Петра Федотыча промелькнула с язвительным хохотом Надюша, он в страхе зашевелил губами, его усы сначала поднялись кверху, потом загнулись назад, как у моржа.
— Заставляете себя ждать, — сухо встретил Жеребяткин и оправил свой новый красный галстук.
— Извиняюсь, у меня часы отстают, — убитым голосом промямлил Утконогов и подумал: «Боже, боже… Он экзаменатор. Прощай, Надюша!»
— Прошу занять место… Напоминаю, что экзамен поведу по всей строгости, согласно экономических потребностей и вообще новых веяний во всех подобных начинаниях, а также будучи идеологическая подоплека. Итак, приступим.
Нарядчик Жеребяткин говорил хотя высокопарно, но вяло и скрипуче, точно стонал. У него флюс, адски болели зубы.
У Петра Федотыча екнуло сердце, но он овладел собой и ответы давал с треском, правильно, четко и толково. Нарядчик Жеребяткин недовольно крякал.
Прошло больше часа. Все трое взмокли от напряжения и жаркого солнечного дня.
Почти вся инструкция блестяще исчерпана. Петр Федотыч даже сверх программы изобразил карандашом схематический чертеж сцепления вагонов обыкновенной и уленгутовской стяжкой.
— Я полагаю, довольно бы… По-моему, товарищ Утконогов выдержал и заслуживает кондукторского звания, — сказал Григорьев, облизнув пересохшие губы.
Утконогов засиял, ему ужасно захотелось расцеловать Григорьева.
— Что? Как это довольно! — оживился Жеребяткин. — А вот мы испытаем, на сколько градусов у него котелок варит. — При этом нарядчик Жеребяткин так сильно засопел, продувая ноздри, что подвязанная к флюсу вата полетела клочьями.
— Отлично. Хорошо, — сказал он, хватаясь за больную щеку. — А вот, например, в товарном вагоне везут покойника. Что это: живность или груз?
«Ну, на этом-то не собьешь меня», — подумал Утконогов и бойко ответил:
— Никакой покойник не может почитаться живностью, раз он умер. Живность шевелится и чуть что — должна поднять крик. Например, корова издает вроде мычанья, петух поет. Под товар тоже подвести нельзя, все-таки это бывший человек, и в смысле товарооборота не может быть и речи. А просто — покойник. Довольно странный, сбивчивый вопрос.
У экзаменатора глаза стали круглыми и завертелись.
— Ну так, — сказал он. — А вот что значит: находясь на службе, кондуктор должен являться в трезвом состоянии? Что обозначает трезвое состояние? Например, я могу выпить ужасно много, и как только начинаю ругаться на татарском языке, значит — стоп. А другого с трех рюмок развезет. Как тут сопоставить?
Григорьев хихикнул в рукав, а Петр Федотыч, чуть подумав, ответил:
— Трезвое состояние значит, когда человек не шатается, не ругается и все понимает.
— Так это и Григорьев, ежели окончательно будучи напьется — не шатается, не ругается, а сразу ляжет на обе лопатки, как бревно, и все понимает.
Григорьев опять хихикнул и сказал:
— Это к инструкции не касаемо, к чему же сбивать?
Но Петр Федотыч нашелся:
— Трезвый — значит ничего не надо пить.
— Извиняюсь, — сердито запротестовал экзаменатор. — Такого правила в инструкции не сказано, чтоб из общества трезвости. Ну, ладно. Этот вопрос спорный и вытекает из крепости естества. А вот… — И он задумался. — Вот скажите мне, что надо делать, ежели в поезде есть вагоны с негашеной известью?
— Я должен убедиться, — начал Петр Федотыч слово в слово по инструкции, — что в этих вагонах нет щелей и дыр и люки закрыты настолько плотно, что устранена всякая возможность проникновения в вагоны дождя, снега и тепе.
— Что, что? Это что за «тепе» такое? — изумился экзаменатор и стал перелистывать инструкцию.
— Я и сам призадумался, — грустно ответил Петр Федотыч. — Чистосердечно сказать, не понял. Но безусловно — сырость, раз известь негашеная. Я так полагаю, что озорники, которые ездят на крышах, например, во время революции… И прямо, извиняюсь, с крыш это самое… А в крышах, конечно, щели. Ну, и потеке.
— Тьфу ты! Ничего ты, сударь мой, не понимаешь. Тут пропечатано: дождя, снега и т. п., то есть — и тому подобное, а отнюдь не и тепе.
— Я не знал. Тут неясно… — упавшим голосом проговорил Утконогов.
![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](https://cdn.my-library.info/books/150395/150395.jpg)